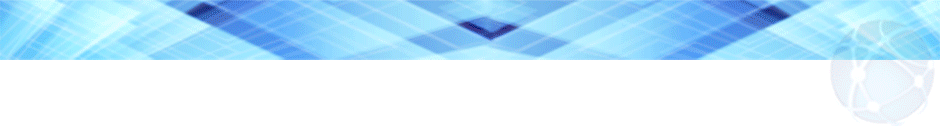ЖИВОЕ ПИСЬМО
Кам’янець-Подільський подарував світові чимало яскравих творчих особистостей. Серед них художник кіно Євген Голубенко. Він був постійним художником-постановником фільмів Кіри Муратової (1934-2018). І це не дивно, адже Кіра Георгіївна була його дружиною. А ще Євген Іванович відомий як живописець, сценарист і фотограф. Він народився 4 листопада 1956 року на Польських фільварках. 1972 року там же закінчив дев’ять класів середньої школи №13. Три роки займався в місцевій художній школі у викладачів Володимира Воїнова та Збігнева (Сергія) Гайха. 1972 року Євген вступив до Одеського художнього училища імені Митрофана Грекова. Через п’ять років він захистив диплом за фахом «Викладач креслення і малювання». Пропонуємо увазі читачів його спогади про рідне місто, дитинство, художню школу, названі ним «Живое письмо», які друкуємо мовою оригіналу.
 В моей средней школе №13 рисование преподавали учителя физкультуры. Мужчина и женщина по очереди. Он знал, что акварель любит много воды, а ей угодить было проще простого – достаточно было не забыть дома альбом с карандашами.
В моей средней школе №13 рисование преподавали учителя физкультуры. Мужчина и женщина по очереди. Он знал, что акварель любит много воды, а ей угодить было проще простого – достаточно было не забыть дома альбом с карандашами.
Летом, на каникулах, нас с братом кто-то надоумил пойти в изостудию Дворца пионеров.
В большой комнате на большущих листах бумаги матерые студийцы писали акварелью натюрморт: подсолнух, разрезанную тыкву и не помню, что еще. Может, яблоки и груши. По сравнению с привычным детским сюсюканьем в маленьком школьном альбоме маленькими же беличьими кистями за тридцать копеек – у студийцев широкое смелое письмо. Нам с братом отдельно, в уголке, поставили на столик глиняный горшок и кружку. И мы карандашами принялись за дело. Через минут десять наблюдения за нашей возней молодой человек, помощник пожилого педагога, сел сначала ко мне и энергичными жирными штрихами нарисовал натюрморт от начала и до конца, а потом проделал ту же процедуру в альбоме брата. Брат спросил, что нам делать дальше, и узнал, что на завтра намечен групповой выход на этюды. Мы опоздали из-за транспорта минут на пятнадцать, дверь была заперта, и вокруг ни души. На двери студии не было и намека на расписание работы. Больше мы туда не совались.
В художественную школу я идти не хотел. Когда появились слухи о ее открытии, я сначала обрадовался, подумал, что это избавит от занятий в общеобразовательной. Перепутал с училищем. Потом прояснилось, что ходить туда нужно после уроков, как ходят в музыкальную, – это разочаровало. Учащиеся музыкальной школы вызывали жалость – они ее ненавидели. Большинство пали жертвами тщеславия своих родителей. Не знаю про знаменитого нынче земляка-ровесника Мишу Альперина, может, ему и нравилось заниматься.
Перед Новым годом мой одноклассник показал свою работу, сделанную в художке (я даже не знал, что он посещает), и акварель мне очень понравилась. Задела за живое. Я понял, что мне так не нарисовать. В нашем классе художником считали меня, а тихоня Саша никогда не «светился». Дома что-то рисовал, но никому не показывал. Он легко уговорил пойти с ним на занятия в художественную, и там без всяких церемоний меня приняли в средине учебного года. Учитель полистал мой альбом для рисования и спросил, смогут ли родители заплатить десять рублей за полугодие. По странной случайности именно эти несколько рисунков сохранились до сих пор.
В семидесятые годы среди интеллигенции появился культ детского рисунка. Мода на детское непосредственное восприятие жизни. Отдельно от научного отношения к детскому творчеству и без понимания, что дети, как и взрослые, бывают бесталанными. Но это увлечение избавило многих малолеток от приставаний, которые преследовали десятилетием раньше меня и моих сверстников: слабо ли зрысувать с картинки лицо Ленина? Именно это зрысувать запомнилось, а не змалюваты.
В народе было поверье, слух, что портретировать вождя позволяют только избранным, только самым-самым. Профиль Ленина мой старший брат копировал одной левой.
Школьники рисуют стенгазету. Большого формата. Такой лист бумаги не так-то просто раздобыть. Проще всего купить какой-нибудь дешевый плакат по технике безопасности и использовать обратную, чистую сторону. Стилистика исполнения сегодня называлась бы гламурной. С новогодней открытки копировали удалую тройку лошадей. Грифель цветного карандаша мелко, в пудру, крошили по фону и растирали ва-той – получалась мягкая растяжка. Потом в нужных местах мазали клеем и посыпали толченым стеклом битых елочных игрушек.
Геологический термин «тектонический разлом» очень точно подходит для описания быта в глубокой провинции и столицах. Когда я смотрю документальное кино о жизни в столицах в пятидесятые, послевоенные годы, поражаюсь тому, что все до мелочей мне знакомо, хотя я родился на десять лет позже. Сдвиг, смещение на целое десятиле-тие проявилось в том, что мои шестидесятые ничем не отличались от столичных пятидеся-тых, а так называемая оттепель шестидесятых знакома мне только по художественной литературе. Когда в 71 году я приехал в Одессу, это был не переезд в другой, новый для меня большой город, а прыжок в другую эпоху, скачок во времени, который впоследствии я испытал, попав в 90 году в Западный Берлин. Там я почувствовал себя эскимосом, нечаянно оказавшимся среди совершенно другой, незнакомой и высокоразвитой цивилизации.
Сколько людей имеют способности к рисованию? В школьном классе я ощущал себя единственным умельцем и думал, что дар к рисованию большая редкость. Но в каждом классе есть один-два таких способных, и если не лениться и подсчитать, то получается, самое малое – пару человек на сотню. А это, в свою очередь, два десятка на тысячу и, соответственно, несколько сотен на небольшой городок – целая армия. Когда первый раз приходишь в художественную школу, ты, единственный в своем роде у себя на хуторе, и видишь эту толпу единственных и неповторимых, – это коробит.
Есть и объективное ощущение чужого превосходства. Я увидел много людей, более меня продвинутых в своем умении, и внутри что-то щелкнуло, захотелось как минимум догнать, научиться рисовать не хуже их. Через несколько занятий я присмотрелся к публике и увидел явных, беспрекословных лидеров. У них за плечами была изостудия при Дворце пионеров, уверенность в себе и высокомерное отношение к остальным. Потом я заметил, что у наших педагогов была какая-то своя, отличная он нашей, детской, табель о рангах, и долго не мог уловить, в чем причина. У нас, учащихся, главным критерием одаренности было умение достигать почти фотографической иллюзорности, а учителя не придавали этому большого значения.
Художественная школа. Гипсовая голова Давида работы Микеланджело, Зевс, Аполлон, кондотьер Гетамелатта. Слепки недавно прислали из Ленинграда. Они белоснежные, новые.
Шуршат карандаши (профессионал с закрытыми глазами может отличить по звуку, мягким или твердым карандашом выполняется рисунок). Задание – анатомическая фигура работы Гудона. Боковой, очень рельефный свет. Для учебного рисунка важно присутствие всех градаций: свет, полутень, тень, обязательный рефлекс, блик. За спинами учеников прохаживается преподаватель Владимир Сергеевич:
– Я останний раз пытаю, хто розмалював Антыною губы?
Тишина, шуршание еще более интенсивное. Пострадавший бюст с кокетливо алыми губами не выдает шутника.
– Якщо вы мэни нэ прызнаетэсь, хто цэ зробыв, я змушеный буду покараты усих. Нихто нэ выйдэ на пэрэрву протягом мисяця. Нэвжэ вы, йолопы, нэ розумиетэ, що фарба всмоктуеться в гипс, и я тэпэр вважаю Антыноя нэвыправно зипсованым, варвары. Наша прыбыральныця захворила и з сьогоднишнього дня мыты пидлогу будэтэ по чэрзи.
Меня всю жизнь тянуло к людям, более одаренным, чем я. Хотелось научиться новому. Я заметил, что хорошо сделанная работа – это работа, которая вызывает зависть. Я не принимаю формулировок «белая» или «черная». Если чье-то изделие нравится всем, а у меня не вызывает зависти, – значит, она плохая, для меня по крайней мере.
Мои друзья Сережа и Саша – ярко выраженные лидеры. Они чувствуют себя опытными мастерами. Пишут маслом, у них есть фабричной работы этюдники. В воскресенье собрались на натуру и пригласили меня. Обещались показать, как обращаться с масляными красками. Поздняя осень. Заморозки. Забрались в овраг лесопарка. Друзья наделили меня всем понемногу: дали картон, пару кисточек, а вместо палитры краску я смешивал на булыжнике. Разожгли костер – чтобы не околеть. Я пытался написать панораму старого города, а Сергей с Сашей по странной прихоти уселись напротив сухого пня и увлеклись его замысловатой корневой системой. Пень был действительно очень красивый, но почти не отличался от пня, который валялся в Сережином дворе возле сарая, и это обстоятельство как-то беспокоило меня: «Зачем эта дурацкая вылазка на «пленэр»?».
Я так и не полюбил работу на натуре. Раздражает быстро меняющееся состояние природы и человек за моей спиной, зритель, который сопит и ждет случая рассказать свою историю о том, почему он бросил рисовать. Я знаю наизусть все дежурные откровения о тяжелом детстве несостоявшихся художников, о родительском запрете на получение легкомысленной профессии. Но из похода на этюды некоторые товарищи извлекали очень конкретную пользу. Когда на первом курсе училища ссылка в село на сельхозработы совпала с хоккейными баталиями между СССР и Канадой, некоторые друзья догадались писать этюды с домов, украшенных телеантеннами, и хозяева телевизоров в обмен на «портрет» своего жилья пускали к себе посмотреть волнующие поединки. Все деньги, что мне выделялись родителями на школьный «перекус» (я не чувствовал в нем особой нужды), теперь уходили на масляные краски. Большинство красителей стоили совсем недорого. Тюбик белил был чуть дороже пачки мороженого.
Урок рисунка в художественной школе. Владимир Сергеевич говорил с двуязычными школьниками на языке каждого, а истории рассказывал только на украинском:
– Я, колы складав испыты до училыща, вважав себе дуже розумным. За дви годыны намалював экзамэнацийнэ завдання. А потим, щоб нэ нудьгувати, переписав наново, як импрэссионисты, крапочками. Хотив показати, який я майстэрный. На мое щастя, выкладачу я сподобався, и вин мэни тыхэнько, бо пидказувати нэ мае права, кажэ:
– Хлопче, ты мыслыш, алэ нэ в той бик.
И я швыдэнько знову пэрэпысав по-учнивськи, як спочатку було.
Преподаватель остановился возле меня. Внимательно рассматривает рисунок:
– Тоби скилькы рокив зараз, ты, мабуть, восьмый клас закинчуеш?
– Да, уже немного осталось.
– И шо ты соби думаеш про будущее свое, какое имеешь представление?
– В индустриальный собираюсь техникум.
– Мне кажется, ты парень серьезный, знаешь, чего хочешь, может, тебе попробовать продолжить обучение в художественном училище?
К вечеру, после занятий вхудожественной школе, просыпался аппетит. И не в последнюю очередь от активной беготни на перерывах.
Дети обычно рисуют на столе, и рисунок находится в перпендикулярной плоскости к их глазам. Работа, стоящая на мольберте, расположена параллельно – все части рисунка равноудалены от глаз. Когда в художественной школе еще не было мольбертов, использовали стулья – на одном сидели, на другой ставили рисунок вертикально, опирая на спинку. Удобство сомнительное, потому что сидели на той же высоте, скрючившись. Маленькую работу можно и на коленях делать, роли не играет. Годы спустя я видел снимки выдающихся графиков за работой. В совершенно неудобных теоретически условиях. И на полу, на четвереньках в том числе.
Один настоящий художник, по внешним повадкам, у нас в школе был. Леня Жарун. Он рвал свои работы. Швырял кисточки. Бился в истерике, если ничего не получалось. Подолгу не являлся на занятия, когда хандрил. Не терпел насмешек. Замыслы его были грандиозные. Через пару лет в художественном училище я встретил уже немало людей этого психотипа. Мой приятель набрасывался с кулаками на позирующего, если тот не мог усидеть неподвижно. Но в нашей школе Леня был самородок. Учебу он так и не закончил.
Фамилии учеников я помню почти все: братья Шрееры, братья Дзензеля, Дима Мельник, Любимский, Крывый, Ткачук, Игнатьев, Карвацкий, Зарицкий, Миронюк, Малецкая, Лалак, Тымчук, Огольцов, Огрузинский, Чорпита, полукитаец Лю Гун Шун, Шабунина, Моторный, Иванов, Костовский, Поджинский, Мацюра.
Дима Мельник, парень из пригородного района Подзамче, принес композицию на тему «Спорт». И все над ним смеялись, тыкали пальцами и подтрунивали. Работа Димы, застыло-кукольные спортсмены в полосатых костюмчиках, очень смахивала на известную работу Анри Руссо, французского примитивиста. И Дима страдал от издевательств, а Владимир Сергеевич утешал, втолковывал расстроенному парню, что нельзя стесняться собственного естества, нельзя ему противиться. Никуда не денешься от своей крестьянской широкой кости и круглой головы с оттопыренными ушами. Усилия учителя были напрасны – если ребенок пришел учиться рисовать, ему не может в принципе нравиться «детскость» примитивистов. Он хочет избавиться от собственной «детскости», хочет походить на великих академиков. Если
худо-бедно человек научился правильно анатомически рисовать, он уже никогда не сможет вернуться к себе неученому, простодушно наивному. Такие попытки у хорошо обученных коллег я наблюдал неоднократно, и могу всегда отличить наивного художника от его имитации с первого взгляда. Такое изображение называется стилизацией. И разница между великолепной работой в примитивистском стиле и собственно примитивом – небо и земля. Чтобы сохранить в Диме Мельнике талант наивного художника, нужно было бы прекратить его обучение по стандартной схеме-программе. Но для этого необходимо, как минимум, чтобы он сам этого захотел. Встречается еще одно занятное явление, похожее на наивное искусство, у хорошо обученных рисовать художников. Мастер запросто пишет портрет с натуры в гиперреалистической манере, а по памяти, без ошибок, человека нарисовать не способен, абсолютная беспомощность в работе по представлению. Зрительная память равна нулю.
Пока человек еще не голодал, ему наскучивает еда, приготовленная дома. Как бы хорошо не готовила мать, как бы она не изощрялась в кулинарном разнообразии, пища, случайно съеденная в гостях, кажется вкуснее своей домашней.
По городу едет подъемный кран. Снаружи проволокой к нему прикручен большой холст. За рулем художник Слава Донец. Раньше он преподавал живо-пись в художественной школе, а потом уволился – не поладил с директором. Слава работает на стройке и в нерабочее время ездит на этюды. Это уже и не этюд никакой. Готовая картина. Грабовый лес, очень точно схваченное состояние сумрака, змеи серых гладких стволов, подстилка опавших листьев. Живопись его скромная и искренняя. Не расцвеченная понарошку.
Закінчення буде.