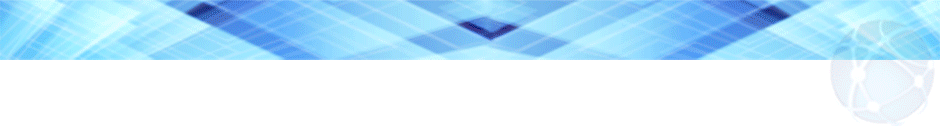ЖИВОЕ ПИСЬМО
Кам’янець-Подільський подарував світові чимало яскравих творчих особистостей. Серед них художник кіно Євген Голубенко. Він був постійним художником-постановником фільмів Кіри Муратової (1934-2018). І це не дивно, адже Кіра Георгіївна була його дружиною. А ще Євген Іванович відомий як живописець, сценарист і фотограф. Він народився 4 листопада 1956 року на Польських фільварках. 1972 року там же закінчив дев’ять класів середньої школи №13. Три роки займався в місцевій художній школі у викладачів Володимира Воїнова та Збігнева (Сергія) Гайха. 1972 року Євген вступив до Одеського художнього училища імені Митрофана Грекова. Через п’ять років він захистив диплом за фахом «Викладач креслення і малювання». Пропонуємо увазі читачів закінчення його спогадів про рідне місто, дитинство, художню школу, названі ним «Живое письмо», які друкуємо мовою оригіналу. Початок у номері за 6 вересня.
 Слава Донец был фанатом Каменца-Подольского – знал в старой исторической части города не только сохранившиеся дома, но и расположение всех разрушенных. Мечтал сделать подробный макет-реконструкцию Старого города. Бывшим ученикам запрещал обращаться к себе на «вы». Так я и «тыкал» ему всю жизнь, стесняясь этой привилегии.
Слава Донец был фанатом Каменца-Подольского – знал в старой исторической части города не только сохранившиеся дома, но и расположение всех разрушенных. Мечтал сделать подробный макет-реконструкцию Старого города. Бывшим ученикам запрещал обращаться к себе на «вы». Так я и «тыкал» ему всю жизнь, стесняясь этой привилегии.
– Володя меня не уважает, может быть, любит, – говорил Слава про Владимира Сергеевича, – но не уважает совсем. Он уважает нашего общего товарища, который живет и преподает в Вижнице, прямо в рот ему смотрит и ловит каждое слово. Толя авторитет непререкаемый для него. Но, что смешно, для Толи авторитетом являюсь я, и все мною сказанное он принимает всерьез, без иронии и насмешек. Налей мне еще чуть-чуть. Нет, нет, только не в маленькую тару. Налей немного совсем, но стакан нужен большой. Я из маленькой посуды пить не могу… Когда работал в школе, учил вас живописи – думал, что ты дальтоник. Странные голубые оттенки в твоих акварелях преобладали.
Аудитория художественной школы. Накануне какой-то годовщины дирекция обязала преподавателя изготовить наглядную агитацию. Владимир Сергеевич с картинки по клеточкам переносит на холст стилизованный профиль Ленина. Учащиеся из-за спины наблюдают с интересом. Учитель черной краской обводит контур, публика его раздражает:
– Хлопци, чого вы тут не бачилы, йдить займиться своимы справамы, нэ трэба тут стовбычыты.
Сережа:
– Нам интересно, мы учимся.
Преподаватель:
– Цього навчатыся нэ трэба. Колы припэчэ – жизнь научит.
На перерыв юные художники бегут в сквер через дорогу.
В сквере остатки сталинской парковой красоты. Почти пустое цементное ложе водоема и беседка с аистом на крыше. Аист когда-то подсвечивался нео-ном, но сейчас парк в полном запустении. В небольшой луже квакают лягушки. Инстинкт охотников побуждает обучающихся прекрасному браться за камни и швырять в беззащит-ных земноводных. Воды так мало, что спрятаться лягушкам практически некуда. Может быть, в наказание за детскую бесчувственность один камень попадает в затылок впереди стоящего стрелка. Аптека рядом, выстригают раненому тонзуру, и фонтанчик крови профессионально закрывают ватой.
Во дворе Сергея друзья пишут этюды. Частный дом, собака на цепи охраняет уборную-скворешник, куры бродят, клюют падалицу. Отец Сергея слегка навеселе, пристает к нам с Сашей:
– Ну шо, хлопци, вжэ решили, куда будете поступать?
Саша:
– Мабуть в учылыще спробувать нада. Так мэни здаеться. Для початку.
Я:
– Наверное, Саша прав, я еще не решил.
Отец:
– А Сэргий у нас в акадэмию будет поступать, да, Серьожа, он правда не очень старается. Не очень к отцу прислушивается. К сожалению. Отец для него не авторитет.
Сергей:
– Видчэпысь, нэ заважай нам, иды соби куды йшов.
Отец:
– Ты, Сашко, своему отцу то-же так грубишь? И кто його так воспитывал, нэ знаю, нэ знаю, что з тебя вырастет, Сэргий. Я, хлопци, в академию художеств поступил сразу после войны. Год проучился, промучился кое-как, и пришлось бросить. Сам один, без родителей, все время кушать хочется, а денег нет. И помочи ждать не от кого. В сорок седьмом голод по стране был страшенный. И я пошел работать на стройку, теперь прораб. Но я хочу, чтобы Сэргий, сын мой, вместо меня закончил академию художеств. А он меня ни в грош не ставит…
Отец ушел, и Сергей жалуется друзьям:
– Чуть не каждый день поддатый. Работа такая, все ему наливают. У отца под руками, в полном его распоряжении, цемент, кирпич, а в магазине ничего нет. А насчет академии – после войны конкурса никакого не было. Сейчас даже соваться страшно.
У Сергея абсолютный «глаз». Сейчас, в век сканеров и принтеров, просчитали бы, сколько пикселей на миллиметр анализируют его мозги, сколько мгновенных сравнений в секунду делают автоматически непроизвольно его глаза, потому что рисование – это и есть сканирование изображения. Ну, и координация этих чудо-глаз с рука-ми необходима. У Сергея все было в порядке. Я заметил в глазах учителя неподдельный восторг, когда он смотрел на голову Давида, нарисованную Серге-ем, – без единой ошибки рисунок, выполненный безупреч-ным штрихом.
Кабинет директора художественной школы. Директор обращается ко мне:
– У нас на носу годовщина окончания войны, и надо несколько работ на тему героизма советского народа. Мы тут с педагогами посоветовались и распределили среди лучших учеников темы. Тебе достался подвиг Александра Матросова.
– Не буду, я на заказ не работаю, – фыркнул высокомерно я.
 Когда вышел из кабинета, услышал, как за дверью директор с преподавателем расхохотались.
Когда вышел из кабинета, услышал, как за дверью директор с преподавателем расхохотались.
Нам читали историю искусства. Раз в неделю час или два преподаватель Фесенко рассказывал про систему античных ордеров. Стилобат, фриз, карниз, архитрав, антаблемент – как «Отче наш» заучивали мы. Когда ему надоедало или казалось, что мы заскучали, он отвлекался на постороннее и советовал не выбирать себе в жены женщин маленького роста.
– Они злые, – уверял Фесен-ко. – Ну посудите сами, как не быть злой, если тебе приходится всю жизнь становиться на цыпочки, заглядывать через чужое плечо, даже подпрыгивать, чтобы рассмотреть что-нибудь интересное из-за чужой спины.
Много лет спустя до меня дошло, зачем нужна жесткая система ордеров. Она придумана не для гениев – те всегда все нарушали, она держала в рамках людей среднего дарования, гарантируя хоть какой-то уровень качества. Если просто, без затей соблюдать классические про-порции, следовать апробированному – никогда не построишь заведомо плохого. Система ордеров – инструкция для посредственностей.
На перерыве подростки едят бутерброды и листают интересную книгу «Сюрреализм в искусстве». Маленький формат. Черно-белые мутные репродукции. Ругательно-обличительный текст. Но между строк проступает скрытая симпатия автора к этому буржуазному извращению, это видно по подбору картинок, по их количеству в тексте. Членистоногие слоны, «Мальчики, пугаемые соловьем» запомнились на всю жизнь. А главное – аромат какой-то чужой, неведомой нам жизни. Бутерброд тоже слово чужое, иностранное, и в практике нашей повседневности брод действительно всегда присутствует, чего не скажешь о масле – его может заменять что угодно: смалец, сметана, кусочки мяса или колбасы.
Учебная комната. Драка. Саша ударил Федю, жителя пригорода, за его беспрерывные подначки. Тот упал, сел в ведро с грязной водой. Намочил брюки и половину расплескал.
Ученики школы держатся группами по месту жительства. Так и сейчас, поселковые заступились за своего. Растащили бойцов. Саша фольварецкий, а с русских фольварок кроме него в школе только девочки. Зашел учитель – разбежались по своим местам. Он сделал вид, что ничего не видел. На мольберте Саши начатая работа: Александр Матросов стоит на коленях перед амбразурой. Герой, пробитый пулями насквозь, в белом маскхалате на лимонно-желтом снегу. На всю спину расползлось бордовое месиво крови. Похоже на варенье. Владимир Сергеевич присел к моей работе. Что-то по Гоголю. Черти, спящий казак. Стал исправлять анатомию лошади: где-то убрал – где-то добавил. На мгновение задумался и одним росчерком добавил ей причинное место, пробормотав:
– Хай будэ жэрэбэць.
Он всем помогал с заданиями по композиции, часто увлекался и переписывал работу ученика до неузнаваемости. А иногда и у него не получалось задуманное, и он огорчался.
Летняя практика. По краю вспаханного поля идет Владимир Сергеевич и трое-четверо учеников. Они смотрят себе под ноги. Иногда шарудят концом ботинка в рыхлой земле. Время от времени что-то поднимают, разглядывают. Чаще выбрасывают. Учитель:
– На цьому пагорби колысь було поселення первисных людей. Тому так багато уламкив кремнию. Особливо якщо ходити писля дощу, можна знайти знаряддя праци, и наконэчники трапляются вид стрил. Алэ в мэнэ е мрия колись знайти тут нэолитычну фигурку людыни, жиночу.
Сергей:
– А я мечтаю в старом городе под скалой найти целый керамический сосуд. Уже лет пять я там нахожу осколки, иногда по полтарелки, а целую никогда.
Учитель:
– И нэ знайдэш там николи. Бо то ж смитнык. Помойка, или, как ее называют по-научному, культурный слой. Из домов на скале вниз уже лет четыреста сбрасывают мусор. Что там можно найти целого? Алэ порпатись там досыть цикаво. Я знайшов там створки речных ракушек, перловиц с отверстиями круглыми. Значит, фабрика рядом была, пуговицы, гудзыки пэрлови делали.
Саша:
– И я такие находил, и кучу полуистлевших остатков кожи.
Они дошли до заброшенного сада на крутом склоне холма и устроились писать старые покрученные яблони. Учитель работает вместе с ними.
Вчера, через сорок лет, я узнал от профессора археологии, что найти в мусорных отвалах целую посуду иногда все-таки можно. В турецком городе Измаил времен его расцвета сильно испачканную пригоревшей кашей фаянсовую тарелку выбрасывали на свалку, чтобы не возиться с мытьем. И в таком виде с окаменевшими остатками еды их находили спустя двести лет.
Я пришел в художественную школу в год ее основания. И как все новое, неустроенное, школа не имела устоявшихся строгих правил. Границы дозволенного были туманными и зависели от личности педагога, а не от инструкции. Поэтому я до сих пор удивляюсь Славику Донцу, который на этюдах играл с нами в футбол и пускал купаться в речку. Я на его месте никогда бы не решился взять на себя ответственность за жизнь десятка подростков. А Владимир Сергеевич ходил с нами на кладбище, где мы обещались указать место с валявшимися бесхозно человеческими черепами. Так пополнялся бедный натюрмортный фонд школы. Поначалу не было глины для лепки, а разноцветный детский пластилин, купленный в универмаге, смешивали, разминали руками до однородной массы мы сами. Руки еще помнят ощущение от этого нудного трудоемкого занятия. В воскресенье он же, Владимир Сергеевич, приглашал желающих приходить в школу и показывал, как формовать скульптуру в гипсе. Это было его личное время. Он занимался собой, своими делами: снимал с одноглазого товарища маску, лепил голубя с натуры (голубь ни минуты не сидел спокойно – прыгал по клетке). Владимиру Сергеевичу нравился скульптор Брынкуш, или Бранкузи, как его называли французы, простотой и лаконичностью формы. И нам он хотел привить свое понимание пластики. У него была теория, согласно которой желание отломать что-нибудь от парковой скульптуры провоцируют хрупкие далеко выступающие от монолита детали. Впоследствии я встречал много великолепных и хрупких на вид скульптур, но теория Владимира Сергеевича о хулигане, пробующем отломать оттопыренный палец изваяния, живет во мне параллельно с новыми взглядами на искусство скульптуры. Я знаю, что причинные места античных богов отломали не хулиганы, а первые христиане. А его теорию простой, компактной, текуче-красивой пластики мастера соцреализма довели до предела «совершенства»: памятник вождю в глухом селе мог состоять из двух отливочных частей, лицевой и затылочной, и назывался этот продукт «обмылком».
Мы торчали в школе с утра дотемна, но я ни разу не почувствовал, что мы ему можем помешать. И работу над композицией он никогда не ограничивал по времени. Хотя, сто процентов, у него на руках был какой-то учебный план по валу. Такой особенный период жизни был, когда каждый день приносит что-то новое. Дремлешь в общеобразовательной школе, ждешь конца уроков, чтобы поскорее бежать в художественную, или, как мы ее называли, в «семинарию». Единственным пробелом в нашем художественном воспитании я считаю внушенное презрение к успеху. Наш любимый учитель предпочитал рассказывать о художниках, умерших в бедности и забвении, а случаи процветания и богатства игнорировал. Нет чтобы рассказать о щеголе и дипломате Рубенсе или придворном любимце Ван Дейке – Владимиру Сергеевичу больше по душе была история с отрезанным ухом Ван Гога, старость в бедности и забвении Рембрандта, мытарства Гогена в Полинезии. Наверное, таким образом он хотел нас обезопасить от разочарований в будущем. Тогда же в журнале «Работница» мне впервые попалась на глаза «Терраса ночного кафе» Ван Гога. Даже от паршивенькой репродукции веяло волшебным очарованием Прованса.
В какое училище мне ехать поступать, вопрос решался автоматически: и Владимир Сергеевич, и Сергей Казимирович – учитель рисунка, заканчивали Грековское в Одессе.
Первый государственный шницель я съел на перерыве в воскресное посещение художественной школы.